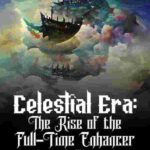Как давно Хадам мечтал?
Как давно у нее было видение?
Когда она приехала на Родейро, или, вернее, когда Родейро застал ее совсем одну, Хадам был всего лишь ребенком, немногим старше, чем сейчас Пуаре.
Трое ее опекунов привели ее в этот далекий необитаемый мир после Seedfall. Холодная, серая, водянистая планета, где самая развитая жизнь росла, как мох на истертых морем камнях. Как они нашли эту планету, она так и не узнала.
Вместе они втроем построили приют, который превратился в дом. Большой купол для их жилых помещений и несколько полуподземных сараев. Первые несколько месяцев Хадам помнила, как она злилась из-за того, что торчала здесь, в глуши. Омайр пообещал: «Это только до тех пор, пока все это не исчезнет».
Галактическое нигде. В безопасности от видений, которые разрывали человечество. Или так они думали. Хадам так и не узнал, кто получил его первым, Омаир, Выманд или Пири. Вероятно, трое скрыли это друг от друга в тщетной надежде, что оно исчезнет до того, как об этом узнают остальные.
Хадам помнил их троих, сидящих за кухонным столом. Серые облака, собирающиеся за окном их видового экрана, затуманивают вид на океан внизу. Она вошла, пробормотала сонное «доброе утро» и направилась к опреснителю.
Вместо их обычного хора веселых добрых утра ее опекуны внезапно замолчали.
— Хадам, садись с нами, — сказал Омайр.
Она пошаркала, страх рос внутри ее живота. Она уже знала, что они собираются сказать. И все же она не могла не ахнуть, когда Выманд развернул руку. Его оливковая кожа высыхала. Вырезанные неровными, крошащимися линиями, которые трескались и блестели от черной пыли. Темные вены расползлись по его шее к уголкам глаз. После этого Хадам ничего не сказал.
«Мы могли бы также взять ее с собой», — возразил тогда Омар.
«Ой? И ты ее тоже убьешь или оставишь ей страдать? Пири сказал, потому что эти двое всегда были в разногласиях друг с другом.
— Она уже мертва, Пири. Мы все мертвы. Вы видели каналы. Миллиарды из нас мертвы. Все заразятся. Мы прошли весь этот путь. Вокруг никого на световые годы.
«Нет!» — крикнул Выманд. Хадам за всю свою жизнь ни разу не слышала, чтобы ее тихий опекун повышал голос. Особенно в Омайре.
«Я не буду ее осуждать! Я тебе не позволю-«
— Бежать некуда, — сказал Омайр как всегда спокойно. «Он уже распространился. Вся вселенная проклята».
— Омайр, — сказал Пири, — она всего лишь ребенок.
«Точно. Подумай, насколько ей будет хуже».
— Она может сопротивляться.
— Ты действительно в это веришь?
— Ты не знаешь.
«Когда? Когда мы узнаем? И ты останешься, чтобы узнать?
— Тогда голосование, — сказал Пири. «Есть три голоса, и мы примем решение».
Хадам не получил голоса. Она не думала, что когда-нибудь снова сможет двигаться, слушая это. Чтобы ничего не сказать, она могла только смотреть на своих опекунов. Тех, кто был с ней всю жизнь.
Когда они оставили Ранджинг и всех, кого она когда-либо знала, они были очень осторожны. На их корабле не было и следа. В последние месяцы они даже не позволяли Хадаму использовать маяк для доступа к сети, опасаясь передачи болезни. Это не сработало. Она не разговаривала со своими друзьями на Ранджинге с того дня, как они уехали.
Все напрасно, подумала Хадам, увидев знаки на их телах. Омар, у нее чешутся глаза. Выманд, спрятав руки под стол. Пири даже царапает — и старается не царапать — место на груди снова и снова.
Выманд и Пири проголосовали против Омайра.
— Тогда хорошо, — сказала Омайр, отталкиваясь от стола. Спокойный и сердитый. «Я не хочу участвовать в этом. Скажи ей, что мы оставляем ее умирать одну.
Слезы, когда они прощались. Она хотела обнять их, но они не прикасались к ней, опасаясь заражения. Вот что причиняло боль больше всего.
Выманд подавился слезами, когда Пири сказал ей, чтобы она была хорошей и осторожной. Но больше всего Хадам запомнил лицо Омайра: ничего, кроме жалости. Омар знал, что ждет Хадама за адом.
«Мы делаем это, чтобы помочь вам», — сказали они. Хадам вспомнила, как плакала так сильно, что не могла дышать. Ни малейшего понимания.
Они упаковали свет. Такие легкие, как будто уезжают только на день. А потом они ушли. Один маленький шаттл, улетающий за пределы мира. Хадам кричала в небо, и когда шаттл вылетел из атмосферы, она побежала обратно в комнату связи. Умолял их вернуться. Они сказали, что любят ее, и разорвали связь.
Это был последний раз, когда она видела своих опекунов.
Прошли часы. Или дни. Она вспомнила о маяке, к которому ей нельзя было прикасаться. Хадам пошел рыться в их сараях. Пришлось придумывать, как его запитать, и настраивать самому.
А когда она зацепилась за сетку?
Подачи были чертовски тихими. Люди все еще были живы, но центральные миры были лишь частью того, чем они были раньше. Ранджинг, Улленфаль и Марс. Все ломалось.
И Земля, когда-то самая населенная из всех, была совершенно безмолвна.
Она осталась на год. Может два. Каждую ночь ей снился тот же сон, что и всем людям. Из рая, падение. О Вестнике Разрушения, чертящем свои невозможные, непостижимые линии через Вселенную, которые тянутся во веки веков.
Само существование колеблется вслед за ним. Разрывая себя на части. рушится. Изменение.
Хадам работала над кораблем своей семьи, превратив его в путешественника, который мог бы пересекать звезды, позволяя ей искать других. Были странные предупреждения из основных миров. Они говорили о разрушительной силе, о заблудшей машине, ползающей по лицу Земли. Живая ошибка.
Предупреждения становились все более странными и диковинными, пока одно за другим не замолчали все центральные миры.
И с каждым днем, когда Хадам подключалась к сети, вместе с ней подключалось все меньше людей. Она понятия не имела, что каждый раз, когда она использовала сетку, Рой наблюдал за ней. Только удача спасла Хадама. Удача и самому Родейро, заметившему ее. Поговорил с ней.
— Ты хочешь побыть один? он спросил.
«Нет, — ответила она, — и больше никогда».
А когда он дал ей координаты своей планеты, Хадам собрал вещи и ушел. Она не могла знать, что ее одинокий, пустой мир вот-вот поглотит новорожденный Рой.
Когда Хадам подошла к координатам Родейро, она обнаружила массивную станцию, вращающуюся вокруг планеты. Лифты простирались до самой поверхности планеты, и машины выпивали мир досуха. Потребляя каждый последний жизненно важный элемент, который они могли найти.
Она простаивала в нескольких сотнях километров. Смотрю. Она не видела флот дронов, почти невидимых на фоне черноты космоса, несущихся к ней.
Они поймали ее корабль. И затащил ее на станцию Родейро. Они вытащили ее из корабля, как краба из панциря. Ее положили на стол и просверлили дырки в черепе.
Первый имплант был самым болезненным.
«Это остановит сны», — сказал он. «Это лучше, чем ничего».
Как она кричала. И корчилась, и скрежетала зубами, дергая оковы. Кровотечение, резание собственных запястий и лодыжек. Она прокляла его. Она откусила часть собственного языка.
И все это время он смотрел на нее с искренней любовью в глазах. «Вы не представляете, насколько вы важны», — сказал он. И: «Ты любима», — сказал он, когда машины все глубже вонзались ей в череп.
Как же она ненавидела его после этого.
И как она пришла поблагодарить его за спасение ее жизни.
«Я должен поблагодарить тебя, дитя, — сказал Родейро, — не все выживают после этого. А нас так мало осталось».
Все это, все эти смутные воспоминания ее древней юности лежат забытыми, как далекий сон, пока, стоя у подножия Своего Вечного Трона, Император не махнул рукой, и все последние имплантаты внутри Хадама не рухнули.
Сон был моментальным. Это был первый раз, когда она попала под воду за много столетий. Тысячелетиями, включая века, проведенные в ее холодной камере под песками этой безымянной планеты.
И когда она спала, ей снилось. Не краткие обрывки конца, а Видение во всей его ужасной кристальной полноте.
Сон начался как всегда: с единственного света, в пустоте звезд и мрака.
Там. Это Земля, подумала она.
Другой засветился. Затем другой, превратившийся в цепочку драгоценностей, протянувшуюся через всю галактику. Первые шевеления человечества, поднимающегося навстречу звездам.
Такими крошечными были центральные миры среди необъятности вселенной. И как долго мы жили на них.
А потом пришли Шрамы. Или, может быть, они всегда были там, аномальный остаток сотворения вселенной. Или, может быть, было какое-то другое объяснение, но важно было то, как Человечество собрало их. Она видела, как Шрамы вспыхнули светом, когда ее предки открыли их. А потом научились их закрывать.
И затем, как собрать эту блестящую, чудесную энергию из Шрамов. И, наконец, как пробить больше дыр и открыть новые Шрамы.
Первые дни добычи, такие сырые. Столько отходов.
Так много власти.
Мигание Врат, которое можно было увидеть с орбиты и за ее пределами. Первый Дар. Внезапно Человечество бросилось через звезды. Миллиарды из них текут во всех направлениях из миров Ядра. Так много семян, взрывающихся по всей вселенной. Так много огней на столь многих далеких мирах.
Чистая красота этого была мучительна, потому что она знала, что будет дальше.
Семена.
Всего их было восемь, первые куски материи, прошедшие через Шрамы. Семена были огромными бесформенными вещами. Размер городов. Они появились, словно взятые только из Шрамов.
Они переоборудовали экстракторы, превратили их в дамбы, созданные для того, чтобы использовать сами Семена. Такая сила. Сырой и обширный, чтобы быть бесконечным.
Хадам попытался закричать: «Не трогай его! Не подходи к ним!»
— Слишком поздно, — отозвался голос.
Это была часть сна, которого она никогда раньше не видела. Мужской голос, как у Пуаре, но более глубокий и усталый. «Слишком поздно.»
Величие человечества продолжало распространять сверкающий Свет по мирам, ежедневно принося новые и более чудесные открытия и расширяясь во все более отдаленные пределы. И основные миры стали ярче, чем когда-либо.
Но не звезды. Внешние пределы человечества начали тускнеть, по мере того как болезнь ползла внутрь.
Основные миры оставались яркими и устойчивыми. Там жило слишком много людей, чтобы так легко отказаться от старых привычек. Так было до того дня, когда случайно разразилась эпидемия.
Хадам видел рождение Роя. Покрытие основных миров. Улленфаль. Из Ранджинга, где родился Хадам. И Земли. К тому времени она уже была за пределами планеты, но сны позволили ей увидеть свой старый дом. И какие машинные ужасы с ним стали.
Таким образом, Вселенная была тихим местом после того, как человечество раскололось. Она могла чувствовать, как проходят века, чувствовать, как мир успокаивается без влияния человечества. Мертвое место.
Пока одна из плотин, наконец, не прорвалась. Он начал раскалываться, извергая себя в пустоту. Все, к чему он прикасался, становилось такой же черной, сверкающей пылью. Медленно пожирая все.
Но вселенная огромна. Потребуются миллионы лет, чтобы все превратилось в пыль. Разрозненные остатки человечества успели в этом разобраться. Они всегда догадывались…
Она не могла сказать, откуда он взялся. Только то, что он был там, перед ней, сейчас. Плавающий в пустоте. Окутанный этим невозможным плащом, который, казалось, простирался за ним навсегда. Когда он двигался, его тело не могло быть человеческим, потому что оно принимало формы и движения, которые не имели смысла для ее глаз. Его руки, казалось, ломались и сгибались не в ту сторону, когда он поворачивался. Его ребра торчали и становились абсурдными, пока его туловище не смялось внутрь и не стало таким же, как прежде. Он был великаном и фрагментом. Тонкий, как травинка, потом большой, как солнце.
И когда он сбросил свой плащ, она увидела, что он всего лишь мужчина. Старый. Безволосый, если не считать его тяжелых бровей и отросшей бороды. Лицо старого гнева и старого страдания.
«Ничего не останется», — сказал он. «Ибо я пришел».
И Вестник Разрушения простер руки. Там, где его руки должны были остановиться, они, казалось, продолжали двигаться, вечно раскрываясь.
Невозможный.
Вестник пульсировал Светом, непостижимым, распространяющимся по всей вселенной.
Окончательное изменение.
Каждая звезда, каждый мир, каждая отдельная скала и каждый атом свободной материи соприкасались одновременно.
И стал черным. Рассыпавшись в прах, как тихая смерть всего сущего оставила лишь бесконечную тьму. Ни времени, ни пространства, чтобы заполнить пустоту. Только Хадам, одинокий, дрейфующий во всей вечности.
Она проснулась, закричала.
Только из ее горла не вырвалось ни звука. И никакое зрелище не зажгло ее глаза. На какой-то ужасный момент ей показалось, что сон уже сбылся.
Голос пророкотал: «Успокойся, юноша». Слова Императора эхом разнеслись по камню.
Хадам снова попытался закричать. Пытался поднять ее тело и боролся с сотней гирь, давивших на нее. Сдавливает легкие, затрудняя дыхание. Она задыхалась-
— Я сказал, успокойся, иначе я заставлю тебя успокоиться.
Она попыталась сделать так, как ей сказали. Втянула в себя столько воздуха, сколько смогла — почему все такое тяжелое? Почему я не могу двигаться? — и попыталась сосредоточиться на том, что услышала.
Его дыхание. Медленный, тяжелый стук его сапог по камню. Струйка фонтанов. Слезы текли по ее лицу, не сдерживаясь.
Волна давления, ветерок над ней. Жжение в груди, в легких. Наплыв облегчения, когда тяжесть, казалось, уменьшилась и уплыла. «Не двигайся слишком много. Несколько твоих костей сломаны, и им потребуется время, чтобы срастись.
Она снова ахнула, чувствуя, как ее горло разжимается. Имплантаты, охранявшие ее трахею, наконец-то сдались. Влажный, шумный кашель, когда она отхаркивала всю слюну, которую проглотила. И обнаружила, что снова может говорить.
— Включи его снова, — потребовала она. «Включи его прямо сейчас».
— Твой ингибитор сна? — раздался голос Императора, как будто беспокоиться было не о чем.
«Я умру. Вы знаете, я буду. Сны меня убьют…
«Все умирают, Хадам. Трудная часть — понять, как жить снова».